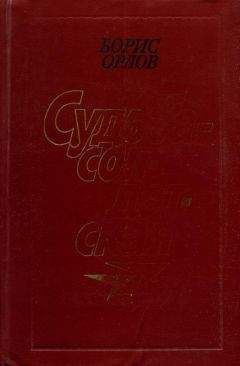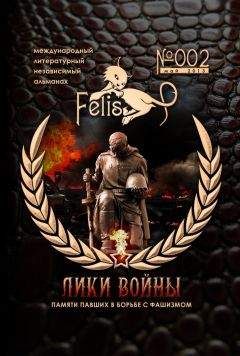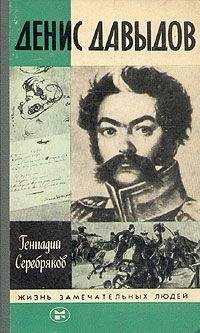Чеботарев молчал. Понимал, надо ответить, но не мог. Внутри что-то непримиримое, злое сдерживало. «Знаешь, что же спрашивать?» — твердил он про себя, почти уверенный, что его увольнение комбат отменит.
— Молчите? — Похлебкин смерил его долгим насмешливым взглядом.
Строй настороженно замер. Шестунин, не ожидая ничего доброго, ел глазами комбата, вытянувшись перед ним так, что исчезла еле приметная сутулость. Похлебкин думал. Потом, чтобы слышал строй, но не громко, проронил:
— Увольнение Чеботареву отменяю. Посадите… — Петра так и дернуло: на губу… А через паузу услышал: — За уставы. Пусть учится отвечать командирам и наматывать портянки… Научится, доложите лично о выполнении.
Небрежно поднеся руку к козырьку фуражки, майор повернулся и неторопливо зашагал к воротам. Шестунин проводил его злыми глазами и распустил строй. Подошел к Чеботареву, который засовывал за голенище угол портянки.
— Эх ты, растяпа! — с сожалением бросил старшина. — Всю обедню Зоммеру испортил.
Чеботарев, даже не взглянув на него, ушел в казарму. Удрученный, высунулся из окна, вглядывался в людей около проходной части — искал Валю. Вдруг подумалось, что зря не попросил кого-нибудь из уволенных в город сообщить о случившемся Зоммеру. Решил: «Надо отписать обо всем Валюше». Досадуя на себя, полез в тумбочку. С конвертом и ученической тетрадью направился в ленинскую комнату.
В ленинской комнате было торжественно и тихо. Шестунин, навалившись грудью на край стола, играл с комсоргом роты в шахматы. Сутин читал свежий номер «Крокодила». Когда Петр проходил мимо него, он ехидно улыбнулся и шепотом спросил:
— Ну как комбат?
— Придира он, а не комбат, — обиженно буркнул Чеботарев.
Выбрав укромное место, подальше от всех, он сел за стол. Раскрыл тетрадь. Месяцы знакомства с Валей промелькнули в памяти. Написал в раздумье:
«Родная Валюша!
Шлю тебе внеочередную депешу. Понимаешь, так получилось, что в город меня сегодня не отпустили. А не отпустили потому…»
Карандаш помимо воли сам остановился на бумаге. Не напишешь же ей про это «потому»! Стыд один!..
Не выходила из головы просьба Зоммера. Петра захлестнула новая волна обиды на комбата. «Будто я какой молокосос — как по щекам отхлестал!»
Петр поднялся… Идя мимо стендов, машинально читал заголовки: «В чем сила Красной Армии», «Советский народ на трудовом посту», «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», «Свято соблюдай воинскую присягу». Возле бюста Владимира Ильича Ленина, стоящего на высокой тумбе, покрытой алым бархатом, глаза наткнулись на ротную стенгазету, членом редколлегии которой был и он. Промелькнуло название передовицы «Если завтра война…» Писал ее перед уходом в отпуск политрук роты Буров. Комсоргу Растопчину конец передовицы почему-то не понравился. Надо было послать кого-нибудь из редколлегии к Бурову, который отдыхал здесь, в городе, и посоветоваться с ним, а Растопчин ссамовольничал, приписав к ней такой конец:
«Наша сила — в нашем народе, в нас, воинах Красной Армии и славных моряках Военно-Морского Флота, в интернациональном духе нашей армии, в рабочем классе капиталистических государств, который, если капиталисты сунут свое свиное рыло в наш советский огород, не будет стрелять в своих братьев по классу, а направит оружие в спину нашему врагу, в одряхлевшее тело капитала».
Конец этот выглядел в передовице как ненужный довесок, но никто с Растопчиным спорить не стал: мысль эта была не нова. Об этом пели песни, говорили в беседах и на политзанятиях, показывали кинокартины… Но, вспомнив про слух, сообщенный Сутиным, Петр подумал о Зоммере: «Не спешишь ли, Федор?» Он тяжело вздохнул, проговорил про себя, имея в виду уже Валю: «Женись вот… Женишься, а тут война…» В глаза бросилась карикатура, на которой изображались злостные самовольщики. Под ней красовалась ярко выведенная подпись:
«По инициативе бойцов и младших командиров мы, члены редколлегии, в этом номере навечно хороним самовольные отлучки!»
Буквы прыгали. Из головы не выходило: «Подвел я тебя, Федор. Подвел».
Петр тихо вышел в коридор и вскоре оказался на крыльце казармы. Еще борясь с внезапно возникшим соблазном, миновал двор — пустынный, без соринки. У конюшни остановился, огляделся. Легко перескочив учебный окоп, юркнул в заросли сирени вдоль забора.
По-прежнему пекло солнце. Было душно. Густая жесткая трава шуршала под ногами, и Петру казалось, что звук этот разносится на весь двор. Но страха не было. Было лишь желание — не подвести Зоммера.
Раздвинув куст, Петр пролез к лазу, о котором слышал от бойцов в курилке. Отвалив от забора гнилой пень, потрогал доску. Качается. Отодвинул се. Прислушался. Просунул в отверстие голову. За забором был чей-то двор. Сбоку росли яблони, перед самой доской зеленел, развалясь в квадратной раме из палок, куст смородины, а рядом с ним, вплотную с забором, стоял сколоченный из полусгнивших горбылей мусорный ящик.
Протискиваясь через дыру большим, сильным телом, Чеботарев зацепил штаниной за гвоздь. Ржавый конец его, пробороздив, выдрал клок. Но Чеботарев этого не заметил — в голове было одно: «Только бы не нарваться на патруль»
2После обеда в горкоме комсомола собрали актив и пионервожатых. Обсуждали, по существу, один вопрос: как идет летняя оздоровительная кампания? Совещание окончилось в пятом часу, а после него Валю, работавшую здесь техническим секретарем, засадили за разбор бумаг.
Появился откуда-то Саша Момойкин — инструктор орготдела. Он взялся Вале помогать, да только мешал, отвлекая ее от работы разговорами.
Валя Момойкину нравилась. Но она не отвечала взаимностью. Другой уж давно бы отстал — не таков оказался Саша. Он был упрямый и настойчиво домогался ее любви.
Саша Момойкин вырос в деревне под Псковом. Рос без отца (отец, белогвардеец, еще в гражданскую войну пропал без вести). Жили вдвоем с матерью. Бедно и скупо. Так что в свои шестнадцать лет, когда ему пришло время получать паспорт, он, наслышавшись, что в городах куда легче, уехал из колхоза. В Пскове устроился у тетки, сестры матери, окончил девять классов и поступил, работать на завод «Выдвиженец». Как-то на комсомольском собрании Момойкин удачно подверг критике работу комсомольского бюро. Его заметили товарищи из горкома комсомола. Осенью фамилия Саши уже стояла в списках кандидатов в члены бюро комсомольской организации. Не прошло и двух лет, как Момойкин очутился в штате горкома комсомола. Этому поспособствовало и то, что, работая слесарем, Саша покалечил кисть левой руки. Оставаться на своей работе он уже не мог. Тут-то как раз и подвернулась свободная должность инструктора, на которой, как ему объяснили, до него сидел не тот человек…
Валя урывками думала о Петре. Когда разобрала наконец все бумаги, глянула на ручные часы — подарок отца после окончания десятого класса.
— Мамонька родная! — ахнула она.
— Опоздала? — с иронией спросил Саша, знавший о ее дружбе с каким-то, как он пренебрежительно говорил, солдатом, хотя рядовой и сержантский состав у нас так не называли.
— Опоздала, — созналась Валя и, забросив за спину тяжелую русую косу, лукаво усмехнулась: — Ты уж прости… Ждет, опоздала.
Валя не вышла — вылетела из горкома. Понеслась прямо домой. Сворачивая в переулок, выбила из рук какой-то старушки сумку с булками. Растерянно остановилась. Торопливо собирала румяные, аппетитные булки и подавала хозяйке.
— Все вы, Морозовы, такие, — неопределенно проговорила старушка, когда Валя уже побежала дальше.
Морозовы жили у реки Псковы́ в маленьком деревянном домике, срубленном еще дедом Вали. Деда она почти не помнила, но знала, что и яблоньки в огороде за домом посажены им. Валин отец, Спиридон Ильич, работал на одном из заводов мастером цеха, но к пятидесяти годам сердце сдало, и он ушел в бухгалтерию — кассиром. Заработок стал маленький. Мать не работала — все прихварывала. И Валя, окончив год назад школу, учиться дальше наотрез отказалась. Пройдя курсы машинисток, поступила работать в горком.
Еще издали через редкий дощатый забор Валя увидела мать. Варвара Алексеевна полола грядки, на которых росли лук, репа, огурцы, помидоры.
— Мам, Петр не приходил? — крикнула дочь матери с крыльца.
Варвара Алексеевна медленно разогнула спину, покачала головой: не приходил.
Сиротливо сделалось на душе у Вали. «Надо было к проходной забежать. Может, ждет там, как писал, — подумала она. — А может, в сквере ждет?.. Все равно ведь к Соне идти».
Валя заскочила в кухню. Нашла кринку с молоком, испеченную матерью сдобу. Перекусив, побежала переодеваться в свою комнату. Скинув с себя платье, бросила его на кровать и прошла в большую комнату. Открыла гардероб. Сняла с вешалки платье в больших красных маках по светлому фону. Прикинула.